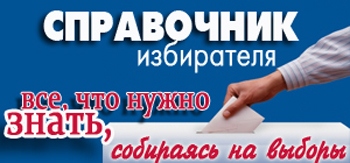Другие новости по теме:
{related-news}
Дмитрий Травин:
Мой предыдущий пост был посвящен специфике путинского поколения – его укоренившемуся с детства прагматизму, равнодушию к «великим идеям», невосприятию демократии и радостному восприятию всего того, из чего можно извлечь практическую пользу: рыночной экономики, властной вертикали и т.д. Эти размышления вызвали одно столь важное возражение, что оно потребовало новой статьи. Есть ведь политики нонконформистского склада из путинского поколения, поколения 70-х. К примеру, Григорий Явлинский – ровесник Путина (1952 г.р.).
Я бы, пожалуй, сам дополнил список «нонконформистов», про которых принято считать, что они живут высшими ценностями. Рок-музыканты, артисты, художники… Беда лишь в том, что часто тот образ, который «надевают» на себя многие наши кумиры, не вполне соответствует действительному образу данного человека. И яркий тому пример – именно Явлинский.
Трудно было придумать более прагматичный вариант своего позиционирования на политическом рынке, чем тот, который он реализовал в 1992–1993 гг. Чрезвычайно близкий ему по взглядам Егор Гайдар стал ассоциироваться с жестким переходом к рынку, с «шокотерапией», как это тогда называли. Григорий Алексеевич не стал поддерживать Егора Тимуровича, поскольку все в то время считали (и Гайдар в первую очередь), что молодые реформаторы – это правительство камикадзе: взяв ответственность за трудные решения, они обрекли себя на политическую смерть. Явлинский тогда начал публично ругать Гайдара за неправильно осуществленные реформы, причем делал это не с коммунистических или националистических, а с демократических позиций. И это было очень прагматично, поскольку в те годы демократическая идея еще была популярнее прочих.
Явлинский, черпавший свой прагматизм из наблюдений за западной политической жизнью, не принял во внимание двух моментов. Во-первых, что наши люди в значительной массе голосуют за власть. Во-вторых, что коммунисты и националисты быстро станут популярнее демократов. Именно по этим причинам «Яблоко» не добилось особых успехов, а вовсе не потому, что Явлинский поклонялся демократии. Внутренняя организация партии была, кстати, совсем не демократичной. Ее откровенный авторитаризм доходил до того, что само название было прагматично выстроено из первых букв фамилий популярных отцов-основателей.
Григорий Алексеевич некоторое время весьма умело «продавал» электорату свою возвышенную любовь к демократии и жалость к жертвам «бесчеловечных реформ», но, по большому счету, просчитался. Как просчитался, допустим, прагматичный бизнесмен Ходорковский в своих оценках Путина. Или как просчитался прагматичный менеджер Чубайс в оценках мировой экономической конъюнктуры в преддверии августа 1998 г. Если люди порой ошибаются в расчетах, это отнюдь не значит, что они не прагматичны.
Приведу несколько любопытных оценок наших признанных «нонконформистов» из сферы культуры. Татьяна Друбич – актриса, игравшая в культовом для поколения фильме «Асса», еще на съемках почувствовала, что мир нонконформистов на самом деле совсем не такой, каким кажется, что в нем существуют люди прагматичные, трудоспособные, стремящиеся к успеху, к хорошим деньгам. «Что меня тогда удивило и в Африканце, и в Цое, и в Шутове – необычность и экзотичность, с одной стороны, и с другой – совершенно полноценная человеческая адекватность в работе, культура общения. Они оказались совершенно не отморозки […] Всегда казалось, что люди этой породы живут по каким-то придуманным законам, правилам, плюют на приличия. Но в тех, кто работал над «Ассой», не было вот этого кислотного алкоголизма» [цит. по Барабанов Б. «Асса: книга перемен», с.255, 258].
А мама Бориса Гребенщикова совсем откровенно отметила: «Благодаря роли в «Ассе» Бугаев (исполнитель роли высокодуховного мальчика Бананана – Д.Т) выхлопотал комнату или квартиру в Ленинграде. Он умел пристроиться в жизни» [Гребенщикова Л. «Мой сын БГ», с.145].
Впрочем, что там квартира! Виктор Цой конвертировал успех в гораздо более значительные материальные ценности. К моменту своей трагической гибели в 1990 году музыкант имел 50 тысяч рублей сбережений (при среднемесячной зарплате того времени – 300 рублей). Как-то раз он откровенно сказал Константину Кинчеву: «Мы сейчас 87 концертов зарядили!». А на недоуменное возражение: «Ты что, все деньги заработать хочешь?», – ответил: «А что? Пока можно зарабатывать – надо зарабатывать» [цит. по Житинский «Цой forever», с.351–352, 435].
Впрочем, не деньги даже являются наиболее ярким примером удивительного жизненного прагматизма музыканта. Еще в начале 80-х он сумел закосить от армии, не имея никаких связей ни в военных, ни в медицинских кругах. От самого артиста это потребовало изрядного мужества, а от его супруги Марьяны – силы воли и здорового цинизма. Цой имитировал вскрытие вен и на полтора месяца угодил в известную питерскую психушку, что на Пряжке. Марьяна ходила в военкомат заплаканная и столь хорошо играла роль подруги психа, что офицеры ее же еще и пожалели. В конце концов, «чокнутого корейца» в армию не взяли, что сберегло его для творчества.
Творчество это – при всей его явной противоположности попсе – строилось, тем не менее, на четком понимании характера массового спроса. Цой, как отмечает хорошо знавший его Алексей Рыбин, «всегда шел за модой и иногда […] чуть впереди. Он был очень чуткий в этом смысле» [Рыбин А. «Кино» с самого начала и до самого конца», с.214]. Понятно, что понимание сути рынка оборачивалось массовым успехом и большими деньгами.
Андрей Макаревич в юности своими стихами глумился над советской пропагандой, но к началу 80-х его группа «Машина времени» сделала шаг из андеграунда на официальную эстраду, стала собирать большие залы, полные стадионы и даже снялась в фильме «Душа» с кумиром конформистской советской эстрады Софией Ротару. За это «Машина» оказалась осуждена «прогрессивной рокерской общественностью», однако добилась главного. Ей удалось пройти между Сциллой прямой антисоветчины и Харибдой откровенного попсово-комсомольского конформизма, которым отличались санкционированные властью ансамбли.
Пишется все это, естественно, не для того, чтобы принизить кумиров поколения, а для того, чтобы понять их. Эти ребята не витали в облаках, умели трудиться и умели обращать каждый момент преходящей жизни к своей выгоде. В этом смысле они похожи и на Путина, и на Медведева, и на Чубайса, и на Ходорковского – на всех ключевых фигур поколения 70-х.